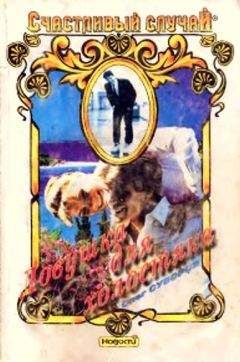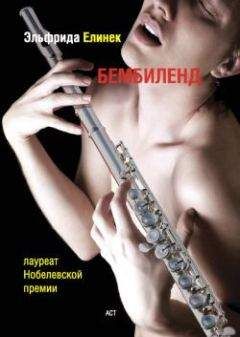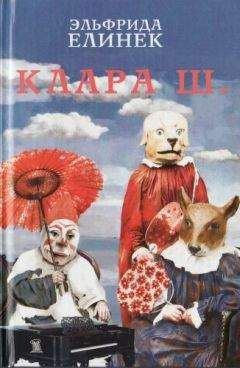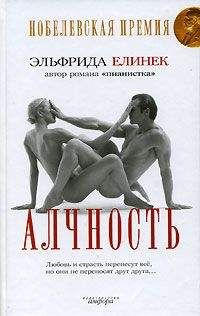Эльфрида Елинек - Перед закрытой дверью [Die Ausgesperrten ru]
Мать говорит ему, что родительский долг — дать детям образование. Детей, во исполнение долга, отправляют в гимназию. Отец говорит, что пора им самим зарабатывать на жизнь, приводя образованных близнецов своими речами в панический ужас. Родители не в праве от них такого требовать, полагают они.
Мурло грозящей нищеты, которая давно здесь угнездилась, дружелюбно поглядывает из углов комнаты, как из укрытия, и подмигивает одним глазом. Не раз и не два штопанные, подшитые снизу тесьмой — чтобы меньше обтрепывались — штанины джинсов близнецов оставляют борозды на пыльном полу квартиры: мать ходит зарабатывать уборкой в чужих домах, поэтому собственный дом остается неухоженным. В чужих домах живут чужие мужчины. Отец в ярости ревет, как бык, живьем поджариваемый на вертеле. Мать от износа никто не бережет, и достается ей не тесьма, а пинки и зуботычины. Уютом от нее не веет, а ведь любой домашний очаг, где управляется хозяйка, обязан уют излучать. Ее это святая обязанность, ведь у офицера в отставке есть дела поважнее. Он разрушает уют и покой, где бы их ни обнаружил.
В кругу знакомых, ничтожно малом, отца считают странным типом, от которого только и жди каких-нибудь выкрутасов и которого даже угостить-то ничем нельзя, потому что он «не ест из чужой посуды», как он выражается.
Часто отцу вспоминаются темные скелеты людей, которых он убивал в Польше, и убийства продолжались, пока снег не утратил девственность и белизну и не стал истоптанным и кровавым. Снег тает и падает вновь, навсегда унося следы людей, сгинувших бесследно.
Мать, со своей стороны, пытается привить детям человечность, в этом заключается материнская роль. Вскоре ей приходится опустить руки, потому что дети хотят быть бесчеловечными и делают все, чтобы и выглядеть соответственно. Все напрасно и омерзительно. Все вызывает отвращение, но никто пальцем не пошевелит: отвратительны клочки бумаги и окаменевшие окурки на полу, отвратительны сырные корки, колбасные шкурки, кофейные пятна, а самое главное, яблочные огрызки и апельсинные зернышки. В них особая гадость. Их не убирают, потому что несказанно приятно чувствовать, как желудок выворачивается наизнанку. Квартира сплошь состоит из углов и закутков, в которых накапливаются отбросы. У обывателя всегда найдется что скрывать, дпя того и существуют укромные местечки. У Витковски выставлено на обозрение все, что хочет скрыть мелкий буржуа, — в их доме не выбрасывают ничего. Перед такими местечками бюргер останавливается, в любую секунду готовый мгновенно ретироваться или, оставаясь незамеченным, заниматься свинством.
В своем несчастье близнецы превосходят любого, потому что не привязаны ни к чему и делают что заблагорассудится. Райнер говорит: «Все люди, пожалуй, действительно в той или иной степени зависят от обстоятельств, но я — исключение, я всех превосхожу благодаря своей воле. Одиночка свободен, если такова его воля». Райнер милостиво принимает эту свободу, сию минуту вручающую ему свои верительные грамоты. Именно ощущение собственного героизма и составляет его одиночество. Одинок этот героизм потому, что никто его не замечает, отчего, естественно, самый распрекраснейший героизм сильно теряет в цене. Зато Райнеру не стыдно прямо глядеть себе в глаза, когда он остается наедине с зеркалом.
Бывает, что в самый обычный день отец наугад хватает одно из чад и, изрыгая ругательства, принимается лупить почем зря. «Не смей становиться отцу поперек». Ребенок беспомощно барахтается в воздухе, а его ребеночье содержимое покидает тело и поднимается чуть выше, откуда лучше виден кошмар происходящего. В самом раннем детстве у них, у Анны и у Райнера, сложилась такая привычка, и они до сих пор уверены, что пребывают наверху и вправе свысока поглядывать на окружающих. Физически они развиваются с трудом и замедленно, но чувство возвышенного у них сохранилось. В их головах сгущается нечто, что позднее взорвется и зальет все ярко-оранжевым светом.
Пришло время, когда близнецы оставили отца позади в смысле приобретенных знаний. Отец тем не менее уверен, что знает больше, чем дети, это дано ему возрастом. Тут самое главное опыт. В эти новые времена свободу дает знание, а не труд. Работать мы не хотим, а уж руки приложить — тем более не дождешься. Современные молодые люди, которые увлечены только танцами да джазом, не дозрели до свободы, а потому ее снова у них отбирают.
Мать родом из приличной семьи, связи с которой давно утеряны. Она была учительницей. Обе половинки семейной пары нежданно-негаданно обрели друг друга в самых низах, на полу, который все топчут. Анна и Райнер ненавидят своих родителей, ведь юность зачастую опрометчива и бескомпромиссна. Нередко они совершают гадкие поступки по отношению к ненавистному отцу, брезгливо передразнивая каждое его движение, вырывая из рук костыли, подставляя ему ножку (а ведь нога-то у него одна-единственная); они плюют в его тарелку, отказываются принести или подать то, о чем он просит. Эти каверзы озлобляют стареющего человека. Доказать, что делается это умышленно, ему никогда не удается. Все же он оставляет их в гимназии, чтобы был повод похвастаться, что его дети в гимназию ходят. Вот так со всей очевидностью приходят в упадок моральные ценности: ценности порядка, подчинения и родительской власти.
Правда, существует еще жена и мать его детей, на ней можно отыграться. Можно сказать ей, что ее тело все больше походит на кусок заплесневевшего сыра, а можно тайком забрать хозяйственные деньги из фарфоровой чашки, где они хранятся, и обвинить ее, что она их сама профукала. Сегодня, к примеру, такая вот ситуация: мама ищет у деток утешения, ведь отец только что нарочно искромсал ножницами новенький, с иголочки, передник из премиленьких, в пестренький цветочек, лоскутков, остатков с распродажи: она собственными руками его сострочила на швейной машинке, купленной в рассрочку. Безо всякого таланта к шитью, но с большим тщанием. И с радостью, что делаешь что-то своими руками. Самодельное чаще всего более прилежно сработано и лучше по качеству, чем покупное, потому что ведь всегда знаешь и что, и где, и как, и чем, а в готовой вещи ничего не угадаешь. Предположить, конечно, можно: сделано кое-как, сшито спустя рукава, так что пуговицы тут же осыпаются, да и непомерно дорого. Можно и подешевле. Вот мамуля и сэкономила уйму денег благодаря своему трудолюбию, а папуля возьми да изрежь все, причем совершенно осознанно. Он, видите ли, принципиально против, чтобы в доме швейная машинка была. Ведь если мамуля станет шить себе новые тряпки, то чужим и совершенно посторонним мужикам может прийти в голову повнимательнее рассмотреть ее пускай расползшуюся, но тем
не менее все еще женственную фигуру. Какие расцветки она себе подбирает? В точку попал: ткани с соблазнительным рисунком, цветастые или такие, которые она цветастыми считает (всякие там грибочки, пчелки, жучки, цветочки и т. п.). А какие фасоны? Так точно: чтобы подчеркнуть сиськи, ляжки и жопу, пусть от них и не осталось почти ничего. Не сметь, и еще раз не сметь! Эти штуки существуют только для папули, и ни для кого более. «Ты все подцепить кого-то там хочешь, но я, даже искалеченный, все равно больше мужик, чем любой другой, у которого хоть ноги-то и две, но он все равно не мужик. Что, доказать тебе, что ли? Докажу прямо сейчас, не сходя с места. Изволь». Не важно где, на коврике на полу или на кровати, повидавшей на своем веку много горя и месячных и оттого смердящей невыносимо.
— Не все же время мне над стиркой корпеть, хочется иногда хорошую книжку почитать, да и просто расслабиться.
— Вот это на тебя похоже, нет чтобы стиральную машину купить, швейную ей подавай. Ходили бы чистые, а какие мы теперь? Грязные. Вот именно. А тебе бы все в новых передничках красоваться.
Вжик-дзынь, звякают ножницы. Столько работы уничтожил одним махом. Какая подлость.
— Будь довольна, что не нанес тебе телесных повреждений, чему я хорошо обучен. Поначалу, помню, давалось трудно, а там само пошло, как по маслу. Кстати, у меня возник замысел новой серии снимков, можно было бы нанести тебе на кожу порезы, царапины, колотые раны. Для этого дела у детей акварельные краски возьмем.
— А я вам абрикосовый пирог испекла, — подлизывается мамочка к детям, у которых она ищет понимания, но ничего не находит. Она возлагает надежды на образование как на основу для этого понимания, на «сердечный такт» детей, которые, однако, давным-давно выбились из любого такта. Вкладываешь в детей, вкладываешь, и ничегошеньки из этого не выходит, никакой теплоты, никакой близости.
— А вот и пирог, и стеклянные тарелочки. Я вам сюда поставлю, тут уже груда книг навалена, для горячего пирога даже местечка не найти, ну-ка, уберите этот хлам!
— Нет, книги мы убирать не собираемся, они важнее любого пирога. Мы как раз читаем о том, что наше существование не имеет никакой ценности. Давай-ка, вали отсюда, мама, — близнецы выставляют мать за дверь. Отовсюду ее гонят прочь, нигде не хотят видеть бедняжку. Это катастрофически сказывается на ее общем самочувствии.